- Начало
- Переводы Бхагавад-гиты
- Статьи о Гите
- Б. Л. Смирнов
- О появлении культа Кришны
- "Многозначное откровение..."
- Из «Телескоп», №3, 1833 г.
- Махатма Ганди и Гита
- Лев Толстой и Гита
- Божественная или Господня?
- Другие Гиты
- Интересные факты
- Ссылки
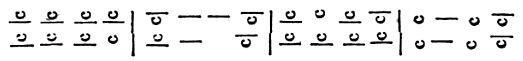
Статья о Гите из литературно-философского журнала «Телескоп»,
опубликованная в 1833 году Н. И. Надеждиным (вероятно, он же является и её автором).
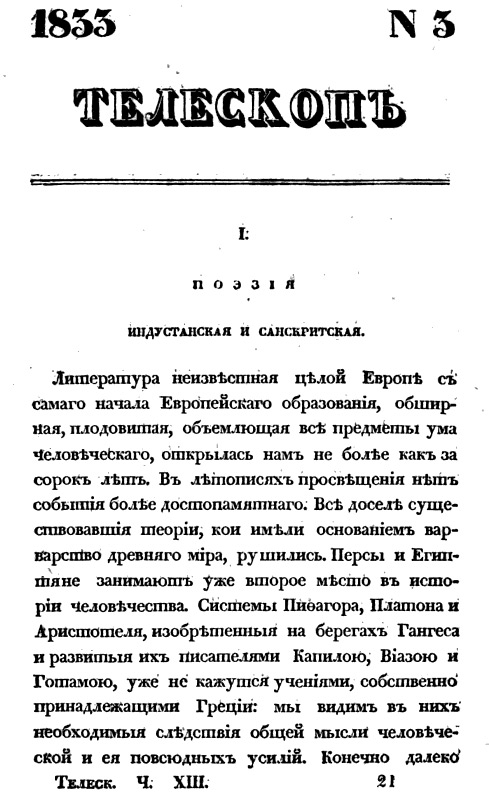
«Телескоп» был передовым и популярным журналом; выходил два раза в месяц; в нём печатались А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, А. И. Полежаев, Н. В. Станкевич, А. В. Кольцов. С 1833 года с «Телескопом» сотрудничал В. Г. Белинский, ставший с 1834 г. помощником Н. И. Надеждина в редактировании журнала. Журнал был закрыт в 1836 г. за публикацию «Философического письма» П. Я. Чаадаева.
Статья «Поэзия индустанская и санскритская» была одной из первых русскоязычных критических работ, посвящённых индийской литературе и, вероятно, первой (не считая предисловия к «Бхагавад-гите», изданной Н. И. Новиковым в переводе А. А. Петрова), где приводится критический анализ Гиты.
Здесь публикуется первая часть этой работы, интересной как с литературной, так и с исторической точек зрения.
"Поэзия индустанская и санскритская"
«Телескоп», №3, 1833 г.
Литература, неизвестная целой Европе с самого начала европейского образования, обширная, плодовитая, объемлющая все предметы ума человеческого, открылась нам не более как за сорок лет. В летописях просвещения нет события более достопамятного. Все доселе существовавшие теории, ком имели основанием варварство древнего мира, рушились. Персы и египтяне занимают уже второе место в истории человечества. Системы Пифагора, Платона и Аристотеля, изобретенные на берегах Гангеса и развитие их писателями Капилою, Виазою и Готамою, уже не кажутся учениями, собственно принадлежащими Греции: мы видим в них необходимые следствия общей мысли человеческой и ее повсюдных усилий. Конечно, далеко не обозрели мы беспредельного поприща, представляющегося нам в творениях санскритских, но труды ученых вознаграждены уже многими важными открытиями; и сей столь обширный путь уравнивается даже в глазах профанов, кои не просиживали ночей за работою столь многотрудною.
В продолжение последних тридцати лет, относительно истории и литературы санскритской, появилось в Европе до семисот сочинений, но в самых образованных странах Европы мы напрасно стали бы искать пятьдесят человек, кои могли бы понимать текст, содержащийся в сих творениях, и хотя бы сто таких, кои приняли бы в них самое минутное участие и сколько-нибудь занялись бы ими. Между тем, неутомимое постоянство, отличительная черта ученых, не уступает сим препятствиям. Кафедры санскритского языка учреждены в Берлине, Бреславле, Оксфорде, Париже. В числе сочинений, изданных в последние времена относительно сего трудного предмета, мы находим одну книгу греческую, одну польскую, четыре на голландском языке, три на русском (?), восемь на датском, сорок на французском, шестьдесят три на английском, семьдесят восемь на немецком, шесть на персидском, сто семьдесят на индустанском. Сношения Индийской Компании с потомками исчезнувших древних брахманов благоприятствуют тяжким, но полезным и гигантским трудам малого числа людей, посвятивших себя служению науки. Мы имеем уже часть индийских эпопей, индийского театра, много богослужебных книг и гражданских узаконений древней Индии.
Долго занимали англичан одни торговые заботы: они забывали о литературных сокровищах или презирали их. Джентльменам мало было нужды до сего умственного богатства, лишь бы меньшая братия их находила себе в Индии прибежище и место, то есть, почти всегда неизбежную смерть; лишь бы только капиталы компаний повышались в ценности и набабы привозили на родину довольное количество золотых пагод? Романический интерес полуострова Гангесского исчезал постепенно; уже нагляделись на слонов, на кресла из слоновой кости, на всю сию варварскую пышность восточных царей, как говаривал некогда Мильтон; волшебства тысячи одной ночи, столь чудесные и удивительные, сделались обыкновенными, простонародными. Королевства обратились в мирные президентства, где сладко покоились старые разбогатевшие торгаши. Епископ Гебер первый пробудил внимание Европы и перенес в сию обширную, магическую страну. Он показал англичанам и Европе сии памятники исчезнувших верований, сии развалины империй, ныне безымянных, сии рукописи, в коих заключаются учения, действовавшие некогда на целые истребившиеся поколения, сии следы образованности, предварившей все воспоминания истории. Любопытство возродилось. Эта древняя земля, у которой Пифагор выпрашивал свои философические догматы, и коей не мог покорить Александр, стала на одну степень с Египтом и Грециею, странами классическими, коих памятники мы вопрошаем, дабы открыть тайны первобытного общества.
Удивление возрастало беспрестанно. Чем более рылись в древностях Индии, тем более чудес открывалось. Вот язык, очевидно первобытный, родоначальник не только всех наречий индустанских, но и языка персидского, греческого, латинского, тевтонического, славянского. Сей священный язык в своей безмерной многосложности заключает все граматические формы, все главные корни, на коих опираются идиомы народов образованных. Вот эпическая поэзия, соединяющая чудовищность с прелестью, трогательную простоту со множеством странных вымыслов, подобно мрачной дуброве, бороздимой яркими огнями. Сии эпопеи сосредоточивают, видоизменяют, украшают великую систему феогонии (теогонии), мифического пантеизма, философии, в коей сливаются тысячи теорий всех западных школ, скептической, эклектической, стоической, идеальной, материальной, атеистической. Представши вдруг взорам ученых и возникши как бы из недр бездны, сии неизгладимые доказательства совершеннейшей образованности и древнейшего общественного быта, сии свидетельства искусства, поэзии и религии, предшествовавших всем искусствам, всем поэзиям, всем религиям, и без сомнения имевших на оные существенное влияние, возвещают важную перемену в наших системах истории и критики. Возникает целый новый мир. Так путешественники дивятся древнему граду Магабалипур, давно скрытому в недрах океана, но, при отливах морских, выказывающему целые пагоды и дворцы, необитаемые в продолжение многих веков.
Мы займемся здесь только теми отрывками поэзии санскритской, коих латинские, и более немецкие, переводы, удержали не только идеи, но даже рифму и форму. Немецкий язык гибок для всякого употребления; чем многосложнее и запутаннее в изгибах ученого синтаксиса наречие, тем удачнее немецкий язык перенимает сии изгибы и разнообразие словосочинения. Другие пусть исследуют философию индустанскую и приведут в порядок ее системы, столь же многочисленные, как и теории, возникавшие и упадавшие попеременно в новой Германии.
Вообще поэзия санскритская любит увеличивать идеи, расширять картины, громоздить происшествия: но зато она упрощает слог, очищает колорит и весьма бережлива на метафоры и эпитеты. В ее творениях не ищите того блистательного смешения, того множества фантастических сравнений, на которые так расточительны поэты арабские и персидские. Все колоссальные изобретения брахманов, создавших сии эпопеи, отличаются напротив прозрачностью и светлостью; сила находится в воображении, а не в образах, в понятиях, а не в словах. Басня («баснь») развивается многообразно, бесконечно, дивно, чудовищно; выражение напротив струится мирно, как прозрачный ручеек. Эти мифологические вакханалии, коими преисполнены эпопеи индийские, излагаются с простосердечием детским, иногда величественным, и в сих отношениях близким к простоте гомерической. Мы говорим здесь только об истинно индийских поэмах, говорим о тех песнях, кои носят на себе печать древности. Все литературы портятся поддельными украшениями, когда преклоняются к падению. Сейчентисты, Гонгоры, Марини Дораты, почитающие изысканность искусством, затемняющие или выворачивающие намеренно свои выражения, дабы блеснуть новизною, были также и у индустанцев. Бенари недавно выдал «Налодайю», новую санскритскую поэму, коей слог столь же лжив и запутан, как чист и ясен напротив слог эпопей древних.
Начнем наперед извинением в нашем невежестве: мы не много смыслим в языке санскритском. Но для нас довольно, если мы сообщим читателям следствия открытий, сделанных людьми отличными, в продолжение нескольких лет, в областях мрачных и обширных. Это Шлегели, коих началам нельзя безусловно покоряться, но которым нельзя отказать в должной дани удивления, философы и поэты, мужи, обнимавшие критику взором мощным и неутомимым, как науку, так и искусство; сотрудник их Бопп; Козергартен и Розен; Шези; В. Джонс; Карей и Мартман; и, наконец, Вильсон. Сии достопримечательные мужи разработали для нас рудник бездонный, стоивший им великих трудов; памятники, исторгнутые ими из глубин земли, возвышаются пред глазами нашими. Не дивитесь, что приближается к ним профан; может быть, оценка наша будет тем справедливее и наше удивление тем рассудительнее.
Время и прилежание, коих требует изучение языка неизвестного, поглощают так исключительно все внимание, что нельзя требовать от филолога проницательной и беспристрастной критики. Его занимают санскритские корни; он удивляется странной запутанности неизвестного словосочинения; его поражают и восхищают новые отношения, кои он усматривает между словами. Если вы захотите искать у него полнейших исследований относительно поэзии и искусства, то подвергнетесь опасности увлечься обольщением его энтузиазма: он всегда готов видеть высокое в сокровище, так трудно приобретенном. Одно напряженное исступление могло подкреплять его в работе столь тяжкой; и оно естественно должно в глазах его цветить и золотить ослепительными лучами самые простые результаты, им завоеванные. Когда древний мореплаватель открывал остров, утес, пустыню, это был для него рай, Эльдорадо, земля, усыпанная перлами и золотом; не только воображение обманывало его, но и сознание успеха, долгие труды, наконец, вознагражденные, чувство исключительного обладания и открытия, лично ему одному принадлежащего, – все приводило его в упоение; обман естественный и невинный, от которого не может избегнуть самый холодный разум!
Время проходит, и очаровательное сияние тускнеет; романтическая наружность исчезает; области волшебные представляются часто плодоносными, живописными, оживленными, но из них уже изгнаны все чудеса, сильфиды, карлы и великаны. Сия чистота идей, сие низведение волшебства в действительность, сия нагота истины без украшения несвойственны первым, более отважным и более знаменитым исследователям. Это дело более скромное, чем блистательное; и между тем труд необходимый, который мы теперь попытаемся совершить!
Новый мир, недавно открытый, распространил неимоверно область литературной истории; мы не присваиваем себе славу открытия; она принадлежит отшельникам учености, анахоретам просвещения, кои, удаляясь от светского шума, даже разлучась со всеми писателями и поэтами современными, не сообщают массе народа плодов своих разысканий. Представим здесь буквально сии латинские и немецкие переводы, кои, слово в слово и часто со всеми оборотами многосложной грамматики и ученого словосочинения, передают нам оригиналы, доселе неизвестные. Таким образом, если не вполне, то, по крайней мере, в любопытных отрывках мы надеемся представить опыты писателей, о существовании коих запад и не подозревал доселе: брахманов, бардов и законодателей образованнейших стран исчезнувшего мира.
Первые узаконения индустанские раскрываются в кодексе Мену, известном по переводу Джонеса, изданному Гайтоном. Религиозные мнения древних брахманов изложены в Ведах, гимнах мифологических. За Ведами непосредственно следуют две великие эпопеи, кои предшествуют Пуранам, Четьи-Минеям брахманским, содержащим в себе толкования Вед и агиографию сей необычайной религии.
Представим наперед читателям несколько извлечений из «Мага-Бараты». Из всех эпопей это самая колоссальная: она возвышается над «Илиадою», «Одиссеею», «Освобожденным Иерусалимом» и «Лузиадами», как пирамиды египетские над храмами греческими. Забудьте и Гомера, и двуглавый Парнас, и поэтические реки Греции с их тенистыми пологами из тополей и живописных кипарисов. Вы в Индии. Вот Гималайский хребет! Это символ поэзии, своими огромными размерами далеко превосходящей все известные поэзии; вершины, на коих стесняется дыхание человеческое; вековые, беспредельные дубравы; потоки, шумные и обширные, как море; смешение исполинское под небом ясным, в атмосфере коего резко обрисовываются все контуры!
Сей исполин эпопеи еще не переведен вполне; умирающая рука Фридриха Шлегеля занималась сею работою незадолго перед смертным часом. В середине сей поэмы есть эпизод, который избирали предметом своих изысканий и размышлений Вилькинс, Август Шлегель и Барон Гумбольдт. Сей эпизод (Багават-Гита) сам собою составляет полную поэму, изложение всей богословской системы брахманов. Восток не оставил нам творения величественнее и любопытнее для изучения. Пантеизм индустанский раскрывается здесь во всем величии и глубине, нередко с ужасающим красноречием. Вы скажете, что это песнь Эмпедокла или Лукреция, вставленная в рамы повествования Гомерического. Бог Кришна, среди сражения, открывает герою Аржуне мистическую и философскую систему Вселенной; брань прерывается; слоны отдыхают на грудах тел; ужасы междоусобной войны безмолвствуют при беседе героя с богом. Сие торжественное рассуждение о человеке и его судьбе, о Боге и Его сущности, прерывает кровопролитную сечу. Нет ничего страннее и величественнее, как сей эпизод и место, которое он занимает.
Междоусобная война возгорелась между потомками Панду, законными наследниками престола, и потомками Куру, несправедливо похитившими венец. Пандусы, с многочисленным войском, под предводительством героя Аржуны, нападают на похитителей их прав, дабы возвратить себе скипетр предков. Бишма, ратник исполинского роста, предводительствует Курусами; битва долго продолжалась и победа еще неизвестна. Ободривши соучастников своих, Бишма трубит к сражению в ужасную раковину, имеющую особенное свое название, подобно Дурандалю в поэмах рыцарских. На сей звук отвечают трубы со стороны неприятельской. Белые кони носят колесницу Аржуны, при коей присутствует сам Кришна. Сражение возобновляется.
Колесница предводителя Пандусов останавливается среди двух воинств. Он окидывает их взором: братья против братьев, родственники против родственников, готовые раздирать друг друга на трупах своих собратий! Им овладевает глубокая задумчивость, внезапная печаль. Он сообщает богу, своему покровителю и вождю, сии чувства скорби и раскаяния. В нашем переводе вы не найдете величественной гармонии индийской шлоки, которая катится, подобно Гангесу, с великолепной пышностью. Шлока состоит из двух стихов в шестнадцать слогов, пресекаемых цезурою после восьмого слога. Первые четыре слога не подвержены никакому правилу; пятый, шестой, седьмой, восьмой бывают всегда краткий, долгий, долгий, краткий; однако ж поэт имеет право переменять последний слог в длинный, если требует того стихосложение. По латинской просодии можно изобразить шлоку следующим образом:
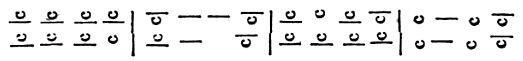
|
«Кришна! Вот мои родные, вооруженные, готовые терзать друг друга! Кришна! Мои члены трепещут, лицо бледнеет, кровь стынет, смертный холод течет по жилам, волосы поднимаются дыбом от ужаса. Гандив, мой верный лук, падает из руки, неспособной держать его; душа, упоенная печалью, кажется, хочет оставить меня.
Бог светловласый, скажи мне! Когда изгублю я всех моих врагов, будет ли это счастье? Победа, престол, жизнь что будут тогда значить для меня? Что значит царство, победа, жизнь, когда те, для коих мы желаем получить и сохранить их, падут в сражении? Сыны и отцы, дядья и племянники, друзья и родные – нет, небесный победитель! Не хочу, чтоб все они пали на бранном поле, если б даже три мира были мне наградою за смерть их! Изгубить их, чтобы завоевать сей ничтожный мир! Нет! Не хочу, хотя они сами готовы безжалостно умертвить меня!»
Сия речь, исполненная столь глубокой чувствительности, занимает большое пространство: в ней представляется полная картина ужасов междоусобной войны: прерванные жертвоприношения, расторгнутые узы семейств, истребление благородных фамилий, распутство женщин, торжество нечестия. Аржуна падает на колесницу, кладет свой лук и стрелы, ждет ответа от бога. Кришна укоряет его в слабости; Аржуна возражает снова с глубочайшей меланхолиею: он лучше хочет быть нищим, изгнанником, лучше хочет потерять корону и жизнь, чем проливать кровь родных своих.
Тогда Кришна развивает перед ним высокую и ужасную теорию брахманов; сей пантеистический фатализм, все сливающий, все позволяющий, все объемлющий.
«Те, коих смерть ты оплакиваешь, не заслуживают, чтобы ты оплакивал их. Живет ли кто или умирает, у мудрого нет слез ни для жизни, ни для смерти. Никогда не было времени, когда я не существовал, когда ты не существовал, когда не существовали сии воины; никогда не настанет для них и часа смерти. Душа, внедренная в тело, изживает юность, мужество и старость; и, переходя в новое тело, начинает в нем жизнь новую. Неразрушимый и вечный Бог из своих дланей развивает вселенную, в коей мы живем. И кто уничтожит душу, которую Он создал? Кто разрушит творение неразрушимого?
Тело, бренная оболочка, изменяется, портится, гибнет, но душа, душа вечная, которой невозможно постигнуть, не погибает. Итак, на брань, Аржуна! Устреми коней своих в самый пыл битвы! Душа не убивает, душа не убивается, она никогда не родится, никогда не умирает, она не знает настоящего, прошедшего, будущего. Она исконна, вечна, всегда девственна, всегда юна, неподвижна, неизменяема. Пасть в битве, убивать своих врагов – что иное значит, как слагать одежду или снимать ее с носящего?
Итак, иди и не бойся! Без смущения свергни изношенное платье, без страха взирай на врагов и братий, оставляющих бренное тело, между тем как душа их облекается в новую форму! Душа есть существо, которого меч не проницает, огонь не истребляет, вода не повреждает, полуденный ветр не иссушивает. Итак, перестань сетовать».
Так продолжает неумолимый бог. Аржуна внимает ему с покорностью, уважением и глубоким удивлением. Тогда Кришна объясняет ему постепенно, в ответах на бесчисленные вопросы, природу богов, свойства вселенной, души, верховное благо и вечную мудрость.
Жизнь деятельная лучше ли жизни созерцательной? Вот первый вопрос, который здесь представляется; вопрос часто предлагаемый в школах Греции, который Багават-Гита решает утвердительно. «Действовать бесстрастно есть высочайшая степень человеческой добродетели; душа, независимая от внешних предметов, свободная от их влияния, должна сохранять невозмущаемую ясность. Пусть она сосредоточивается и заключается в самой себе, как черепаха замыкается в своем подвижном домике и укрывается от всех взоров! Пусть действует, но без потрясений! Да не возмущается ничем внутренняя тишина ее! Пусть глубокое бесстрастие противоборствует всем внешним случаям, несмотря на их важность, силу или ужас, которыми они окружены!» Сей таинственный стоицизм, противный теориям созерцательной восторженности, доныне исповедуемой йогисами, древний поэт развивает и подкрепляет с удивительным красноречием. Многие сравнения стоят того, чтобы здесь их представить. Душа в спокойствии своем должна сохранять неизменную чистоту: так небесный лотос с лазоревыми листками покоится и спит на струях прозрачного озера. Далее поэт сравнивает величие души философа с величием океана и с торжественностью его тишины: «Удовольствия чувственные, их волны и бури, поражают твердую душу мудрого, но не колеблют ее: ничто не может ее смутить. Таково море: напрасно тысячи бурных потоков изливаются в недра его: беспредельный океан всегда остается тих и величествен». У Гомера нет подобной метафоры; это не есть сравнение, заимствованное из физической природы: вождь храбрый и страшный, как лев; меч, пожирающий людей, подобно пламени, пожирающему дальние жатвы. Поэт санскритский сравнивает состояние души с особенным явлением природы. Он прелестно рисует сие спокойствие, употребляет самые нежные краски, чтобы изобразить это одиночество души, эту мирную тишину совести, «отшельника, заключенного в нашем сердце, лампы, повешенной под сводами мирного чертога, коей пламя не колеблется ни малейшим дуновением».
«Пусть благочестивый говорит: все мои внешние поступки ничего не значат. Это дело моих чувств, а не души моей. Она заключается в самой себе; она повторяет священный слог “ОМ!” и помощью сего талисмана открывает единство Бога во всех вещах, открывает Бога во всем. Человек, живший таким образом, по смерти сливается с первоначальным духом, Брамою, он теряется в источнике бытия, соединяется с Богом. Если мужество оставляет его или смерть застигает прежде, нежели он заслужит сию награду, то он может возродиться в новой форме, сыном какого-нибудь благочестивого анахорета, он снова начнет поприще своей святости и божественного спокойствия, пока заслужит небесный венец!»
Заметьте, что Кришна не одобряет ни одной из тех добровольных пыток, коим подвергают себя факиры. Его учение есть род стоического квистизма.
Изложивши систему вселенной, бог изъясняет самого себя Аржуне. Аватар, или воплощение верховного Бога, он есть Брама в виде человеческом; все из него проистекает, все опять в него возвратится. Потом, постепенно возвышаясь, он называет себя тождественным всему, что есть великого во вселенной; душа, везде присущая; блистая в самых ярких звездах, он имеет престолом все, что носит печать владычества. Между реками он Гангес, между словами – односложное ОМ, то есть Бог, между горами – гора Меру, между животными – слон, между птицами – орел. Наконец (сии два символа удивят читателя), между буквами – гласная «а», а между коварствами человеческими – страсть к игре. Итак, он – все, даже преступление; объемлет все, даже ничтожество.
«Ты видишь во мне, - говорит он, - и бессмертие, и смерть. Я то, что есть и то, что не есть. Атмосфера, наполняющая, объемлющая, окружающая, содержащая вселенную, есть мой образ. Подобно как она, я объемлю и содержу все сотворенные вещи. Я повесил на жемчужной цепи вечную вселенную и держу ее в равновесии». Гомер употребил тот же образ («Илиада», VIII.25), вероятно, индустанского происхождения.
Как величественно сие олицетворение пантеистического учения! Никогда смелость поэзии не облекала в образы мыслей столь величественных и обширных. Никогда отвлеченность не олицетворялась с более энергическою дерзостью; никогда вымысел, столь глубоко метафизический, не получал равно ощутительной формы и резкого цвета.
Аржуна молит бога открыться его взорам уже не в образе человеческом, но в образе божественном. Кришна соглашается на то:
«Ты меня увидишь; тебе явятся миллионы превращений, оттенков, форм бытия; тебе откроются чудеса, сокровенные от очей человеческих; но твои взоры не вынесут таинственного зрелища; я даю тебе взор бога; смотри!»
«Если б заблистали на небе вдруг тысячи солнц, то и сие великолепие не сравнилось бы с тем, что увидел Аржуна: единство в многоразличии, блеск и жизнь всех миров, воплощенных в боге богов. В исступлении ужаса Аржуна, подняв главу к небесам и сложив крестообразно руки на грудь, воскликнул:
- Все существа, все колена мира я созерцаю в тебе едином: вижу и Браму на лотосовом престоле. Руки твои бесчисленны, тело не имеет ни пределов, ни начала, ни средины, ни конца. Венец сияет на главе твоей; щит меч, булава в твоих руках; ты блистаешь ярким, нестерпимым светом, лучезарное солнце вселенной!»
Поэт несколько пространно описывает сие великолепие пантеистического божества, но скоро оно преображается; его блеск изменяется в ужас; из зиждительного оно становится разрушительным. Существо, извлекшее все вещи из ничтожества, возвращает свое творение в свои недра. Ужасная бездна, пропасть неизмеримая, чудовище с зияющей пастью! Все теряется и исчезает в пучине божественной.
«– Кто ты под сим ужасающим образом? – воскликнул Аржуна. – Рушитель и потребитель всех вещей, страшный бог, слава тебе! Герои человеческого рода, миры, поколения в тебе поглощаются; пламенные уста твои пожирают их, как море поглощает потоки и реки. Но я желал бы видеть тебя опять в первом твоем образе, в образе зиждительном!
– Я время всеразрушающее! – отвечает Бог. – Это воинство все исчезнет. Кроме тебя, ни один человек в сих боевых рядах, в этом блистательном всеоружии, не переживет грядущего дня. Итак, иди, рази, восстань, торжествуй, попри врагов твоих и царствуй! Сие воинство уже мертво; оно моя жертва, а ты только рабское орудие судьбы! Низложи Бишму, Карма, Ягатрата, Дрона. Губи всех их ратников! Поражай! Они уже побеждены!»
Довольно сих отрывков, чтобы познакомить читателей с одним из самых редких и необычайных памятников древности, с изложением пантеизма под формою ужасного символа, в поэзии простой и величественной. Другой эпизод из той же поэмы, противоположностью своей, даст идею о разнообразии оттенков, отличающих эпос индустанский. «Нала» («Песня о Нале»), переведенный на латинский и немецкий языки Боппом и Козегартеном, напоминает нам элегическую чувствительность и очаровательную плодовитость Спенсера. Это роман, коего характеры искусно обрисованы, обстоятельства правдоподобны и имеют занимательность патетическую; образцовое творение, достойное стоять наряду с прелестнейшими произведениями искусства. Европа поставила бы его недалеко от второй песни Энеиды и от эпизода Герминии, если бы различие между восточными и западными нравами не было вечным препятствием тому, чтобы понятия азиатских поэтов могли сделаться у нас совершенно народными.
Поэзия, проистекая от чувства и воображения, к ним одним обращается. Ум, конечно, понимает ее; но поэтическое чувство недоступно для его оценки. Многие читатели понимают Гомера; но так ли говорит Гомер их воображению, как говорил он воображению Платона и Перикла? Конечно, нет. Не многое число избранных владеет ключом к святилищу. Чтобы читать Одиссею, надобно сделаться Эллином, переродиться. Все народы имеют свой особенный характеристический тон страстей, непонятный для чужеземцев. Гармония наших концертов дерет уши мусульманину: что восхищает нас, то для него служит мукою. Не только поэзия индустанская не возбуждает в нас никаких впечатлений и идей, кои нравы наши запечатлевают поэзией, каковы: звон колоколов очерки наших ландшафтов, листья наших лесов, героические имена нашей истории, цветы и плоды нашей земли: но ее прелесть и волшебство проистекает из нравов, для нас вовсе неизвестных, из земли, коей произведения кажутся нам гигантскими и варварскими, из привычек, по нашему мнению, диких, внушающих ужас и отвращение. Каким же образом большинство читателей ознакомится, сблизится, сроднится с впечатлениями, столь несогласными с их обыкновениями? Даже Мильтон, Шекспир, Спенсер и Дант еще не сделались совершенно народными в Европе: им больше дивятся на слово, чем понимают. Чтобы иметь доступ к их гению, необходимо некоторым образом предварительное воспитание: прелюдия роковая, вступление гибельное для поэзии! Пока читатель приобретает нужные познания, он потеряет свежесть чувствительности, без которой нельзя вполне наслаждаться поэтом.
Если нравственные идеи, выражаемые чужеземною поэзиею, едва доступны для нас, то гораздо неудобопонятнейшей загадкою должны быть ее сельские описания. Почва Италии и Греции, по крайней мере, украшалась теми же цветами, кои распускаются в английских парках. Пророческий дуб Додоны, плющ Виргилиев, лавр Дельфийский, роза Анакреонова принадлежат целой Европе; их цветы, их запах, их листья, знакомые для наших глаз, сообщают нам часть тех впечатлений, коими окружала их древняя муза. Но прочитайте следующий гимн Яядевы, блистательное и поэтическое описание весны. Он представит вам длинную гиероглифику; а если вы исключите первую фразу, то ни один стих не оставит в голове вашей чистой цветной идеи, не произведет в душе вашей ни одного воспоминания, ни одного впечатления.
«Вот время вздохов для нежных дев, разлученных с теми, коих они любят! Цветы бакула уже покрыты золотыми пчелками. Черные листки тамалы (корицы малабарской) дышат запахом мускуса. Красные кисти палаи багровеют кровью, словно когти Камы, когда он раздираеть сердца юношей. Распустившаяся цезара походит на блистательный скипетр любви, царицы вселенной. Колючие шипки цетазы суть копья, омывающиеся в груди любовников. Посмотрите на ветки патали; ее чашечки наполнены пчелками, как колчан стрелами. Благовоние маллики упояет и чарует сердце отшельника; а кудри амры купаются и развертываются в голубых волнах Ямуны.»
Все сии образы прелестны; некоторые из них достойны поэтов греческих: но слова варварские и неупотребительные разочаровывают нас. Греческая мифология, знакомая нам от колыбели, кажется для нас уже странною; пан и сатиры для новейших имеют только второстепенную занимательность. Но поскольку сношения Лациума и Эллады с новейшей Европой сохранились в средних веках, то они не потеряли совершенно своего влияния на нас. Было время, когда мы в своем простосердечии воображали, что происходим от Гектора и Франкуса. Классическое изучние выстроило мост непрерывного сообщения между образованностью древней и нашей. Троя, Афины, Фивы и даже Персеполис имеют узаконенное место в сфере нашей мысли и возбуждают в нас величественные воспоминания. Мемфис нам известен; но Айодия (Айодхья) и Видабра? Геликон и Парнас еще льстят нашему воображению; но гора Меру, Шива и Вишну представляются для нас в формах странных, под мрачною пеленою. Виллиам Джонес напрасно сочинял поэтические дифирамбы, развивающие мифологию брахманов; только беспредельная ученость может дать нам ключ к ней: но крылья поэзии опускаются под тяжестью сей варварской работы. Прекрасная драма Калидасы «Облако-Посланник», переведенная Вильсоном, создание элегическое, запечатленное гением, для нас непонятно; высокое изящество поэзии тяжко борется с необычайным множеством собственных неудобопроизносимых имен и чуждых непонятных воспоминаний индейских.
(до следующей книжки)
...
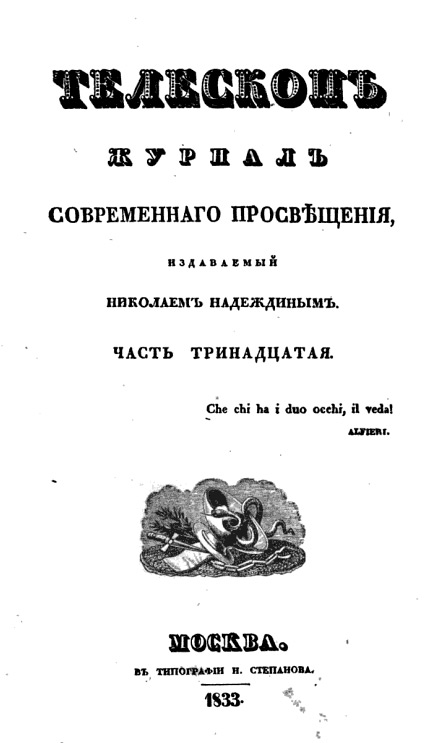
|
|
|
|